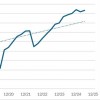В конце июля стало известно, что проректор Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин принял решение покинуть это учебное заведение. Сонин, один из самых известных экономистов России, пояснил, что не испытывает по поводу ухода «ни злобы, ни горечи», а также что его решение никак не связано с политикой. Весной 2013 года Россию и свой пост оставил ректор РЭШ Сергей Гуриев из опасений преследования по так называемому «делу экспертов» «ЮКОСа». «Лента.ру» расспросила Константина Сонина о его дальнейших планах, ситуации в российской науке в целом и экономической науке в частности.
«Лента.ру»: Вы полностью закончили свои отношения с РЭШ?
Константин Сонин: Переход профессора из университета в университет (в отличие от перехода футболиста) — это долгая и мучительная процедура. Потому что все курсы уже на год вперед согласованы: соответственно, я сейчас должен буду прочитать курсы в РЭШ, и только потом уход завершится окончательно.
Вы же еще работаете в бакалавриате в Высшей школе экономики?
Этот бакалавриат у РЭШ и ВШЭ — совместная программа. Я в нем преподаю, и я им руководил с момента создания (формально — со стороны РЭШ). Буду продолжать заниматься этим бакалавриатом в обозримом будущем.
Вы принимаете участие в работе Совета по науке при президенте РФ. Будете продолжать?
Насколько я понимаю, в Совет по науке людей же включали не по вузовскому представительству. Вроде как я все равно остаюсь, по формальным показателям, самым «высокоимпактным» российским экономистом, так что тут ничего не изменится.
В Совете по науке вы обсуждали реформу РАН. Можете озвучить свою позицию по этому вопросу как ученый-экономист?
Была большая дискуссия про реформу РАН. Я явно расположен, говоря политэкономической, политологической метафорой, ближе к реформистской части спектра, чем типичный член Совета по науке. Большинство Совета по науке более консервативно смотрит на вопрос, чем я.
Впрочем, мне трудно высказываться на эту тему. Слова о том, что РАН нужна реформа, прежде всего должны идти от людей, которые ближе к каким-то наукам, в РАН хорошо развитым, таким как математика и теоретическая физика. Поскольку я представитель общественных наук, большинство которых в институтах Академии наук представлены на низком уровне, то мне кажется, что в результате реформы мало что изменится.
Причем «мало изменится» не значит «останется так же ужасно, как было». Все сложнее. Например, у меня большие претензии к Институту экономики РАН, головному институту, наряду с ЦЭМИ, в нашей науке в РАН: они за последние 15-20 лет не произвели ни одной научной работы высокого уровня. Ни одна статья, по-моему, не опубликована в топ-100 мировых журналов. С другой стороны, если посмотреть на то, что делается в ИЭ РАН, какие диссертации там защищаются, то это все-таки бесконечно лучше, чем то, что происходит во многих вузах на факультетах экономики. То есть вроде бы уровень экономической науки в РАН низок, но того разврата, который царит на многих факультетах экономики по всей стране, там нет.
На ваш взгляд, где должна развиваться экономическая наука?
В одной стране может быть несколько сильных факультетов экономики и несколько сильных исследовательских центров, которые делают прикладные исследования. Вот в чем я не уверен, так это в том, что должна быть какая-то фундаментальная экономическая наука вне вузов. Прикладная — конечно, фундаментальная — не уверен.
А сейчас речь о чем идет?
Ну, в той же Академии наук есть институты, которые занимаются прикладными исследованиями. И это нормально. Но вот я не уверен, что Академии наук нужны фундаментальные исследования без преподавания. С другой стороны, есть такие институты, как Стекловка (Математический институт РАН) и ИППИ. Может быть, в идеальной России их бы не существовало, это были бы факультеты математики, физики, computer science в ведущих университетах. Но мы же живем в той России, которая нам дана. И вот в ней есть прекрасный академический институт. Другое дело, что непонятно, много ли должно быть таких институтов — нужны ли единицы или десятки? Нужны ли они по всем наукам?
Большинство институтов сегодня функционируют не как площадки, а как замкнутое на себе комьюнити. И упразднить их никто, кажется, не стремится.
Есть важная составляющая реформы РАН, которая абсолютно не обсуждается. В результате реформы основной единицей станет лаборатория, и, соответственно, система будет гибкой по отношению к тому, как эти лаборатории будут возникать, как они будут исчезать. Вот вещь, которая в Советском Союзе была совершенно порочной и неправильной — если что-то создавалось, то создавалось навсегда. И не было никакой возможности это убрать. В этом смысле, конечно, американские университеты очень гибкие, и эта гибкость в какие-то моменты играет большую роль. Я не историк науки, но, насколько я понимаю, именно эта гибкость позволила Америке оказаться лидером в интернет-технологиях. В США создание факультетов computer science заняло на десятилетие меньше времени, чем в Европе. Сейчас в России на факультетах экономики вводят линейное программирование, которое ворвалось в экономику в 1960-е годы и выбыло в 1980-е, потому что с тех пор изобрели компьютеры и, соответственно, такая необходимость ускорять численные расчеты отпала. Но сейчас оно железной поступью добирается до наших экономических программ. В каком-то смысле программа математизации экономики, поставленная еще КПСС, сейчас как бы воплощается в преподавании программирования экономистам (смеется).
Давайте вернемся к экономической науке. Вот есть РЭШ, это такая гордость нации. И есть Академия наук, которая…
Вы забыли про Высшую школу экономики. Сейчас все-таки она является лидером в области экономической науки. Ну и РЭШ за это звание тоже сражается. Для них, впрочем, правильная конкуренция — конкуренция за лучшее место в Восточной Европе. И это может быть острая конкуренция, потому что и Центральноевропейский университет в Будапеште сейчас вернул очень сильных уроженцев Венгрии в Будапешт, и Киевская школа экономики, если киевские олигархи вдруг проснутся и дадут хоть немножко денег, может быть конкурентоспособной. Высокая наука делается именно в этих заведениях.
А массовая?
Массовая экономическая наука должна развиваться в двух местах: на факультетах в вузах и в прикладных центрах, существование которых оправдывается не публикациями в научных журналах, а тем, что у кого-то есть спрос на эти разработки. И про эти центры не нужно никакой государственной структуре решать, существовать им или не существовать. Если этот центр не фундаментальный, а прикладной, тогда если он зарабатывает деньги, то пусть существует, а не зарабатывает деньги — пусть не существует, и не надо его поддерживать.